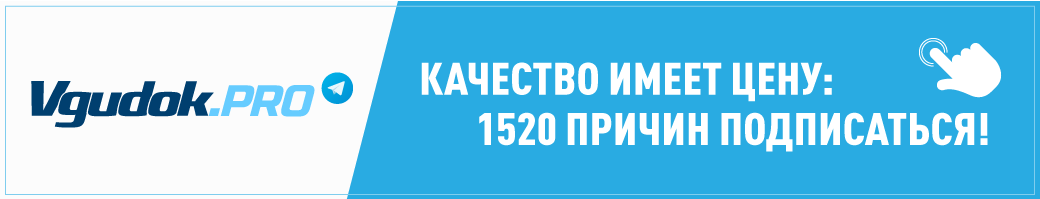Тарифная история — практика и теория. Разрыв между доходностью для РЖД угля и остальных грузов немного сократился

В последнее время в СМИ активно дискутируется вопрос о тарифах на перевозки каменного угля. А этот вопрос «потянул» за собой и обсуждение более общего вопроса — о роли принципа ценовой дискриминации и вытекающей из него дифференциации железнодорожных грузовых тарифов. Тарифную историю комментирует Фарид Хусаинов, эксперт НИУ ВШЭ, канал «Экономика на рельсах».
Часть первая. Практика
Вообще говоря, в основе тарифных систем везде в мире, включая и Россию, лежит принцип, который в экономической науке называют ценовой дискриминацией. Применительно к тарифам это означает, что более дорогие грузы «едут» по более высокому тарифу, более дешёвые — по более низкому.
В США при сравнении укрупнённых групп грузов дифференциация между высокодоходными (химикаты) и низкодоходными (уголь) может составлять 2,5 раза, однако, если анализировать все грузы, то разброс может вырасти на порядок. Деление грузов на разные группы или классы, отличающиеся по величине тарифов, в зависимости от платёжеспособности есть в тарифных системах практически всех стран с развитой сетью железных дорог, в Китае таких групп от 8 до 9, в Индии — от 14 до 16, в Бразилии от 5 до 20 (в зависимости от дороги), в Великобритании — более 20 групп.
В России деление на тарифные классы в современном виде появилось в 1995 г.
Если мы сравним доходные ставки за тонно-км, то обнаружим, что такие грузы первого класса, как, например, щебень, уголь или руда, дают перевозчику (то есть ОАО «РЖД») доходную ставку на 30–55% более низкую, чем в среднем по всем грузам. А у таких групп грузов, как нефть и нефтепродукты или чёрные металлы, наоборот, доходная ставка на 79–80% выше, чем в среднем по всем грузам.
В последние годы ОАО «РЖД» проделало некоторую работу по повышению общего уровня тарифов с особым вниманием к повышению тарифов на перевозки угля, чтобы несколько уменьшить то исходное распределение грузов по уровню доходности, которое было изначально заложено в Прейскурант 10–01. Как известно, общий рост железнодорожных грузовых тарифов ОАО «РЖД» за последние три года составил +64,5%, (за 2022, 2023 и 2024 гг. было в общей сложности пять повышений — в январе и июне 2022 г., в январе и декабре 2023 г. и в декабре 2024 г.).
Но наряду с общим повышением была произведена ещё и отмена понижающих коэффициентов 0,895 для угля и 0,4 для некоторых марок угля в июне 2022 г. Это привело к тому, что по итогам 2024 г. доходная ставка РЖД от перевозок каменного угля (за тонно-км) выросла по отношению к 2021 г. на 78%, а для перевозок угля на экспорт выросла на 91%. При том, что средняя доходная ставки по всем грузам за тот же период выросла на 53%.

Доходная ставка (за тонно-км) при перевозке каменного угля по итогам 2024 года на 45% ниже, чем средняя доходная ставка от перевозки всех грузов в целом, таким образом, то перекрёстное субсидирование между низкодоходными и высокодоходными грузами, на котором построен Прейскурант 10–01, по-прежнему сохраняется.
Вместе с тем необходимо отметить (и это важный момент), что отношение доходной ставки на перевозки угля к средней доходной ставке по всем грузам постепенно увеличивается. Если в 2017 г. доходная ставка от перевозок угля (на тонно-км) составляла 44–45% от средней доходной ставки по всем грузам, то к 2024 она выросла до 55%. Таким образом, разрыв между доходностью для РЖД угля и всех грузов в целом немного сократился.
Часть вторая. Теория
Большинство экономистов — от самых левых до самых правых, от мейнстримовых (как Грегори Н. Мэнкью) до представителей гетеродоксальных школ (например, Австрийской школы, включая Л. фон Мизеса) позитивно относятся к ценовой дискриминации, поскольку экономическая теория учит нас, что ценовая дискриминация повышает благосостояние потребителей и способствует увеличению выпуска в экономике.
Если будет установлен какой-то средний уровень, не зависящий от платёжеспособного спроса, то это приведёт к росту тарифа для грузоотправителей дешёвых грузов, что (учитывая высокую долю транспортной составляющей) может сделать их перевозку невозможной. При этом произойдёт некоторое снижение транспортной составляющей в цене дорогих грузов, но вследствие того, что эта составляющая невелика, снижение будет практически незаметным с точки зрения влияния на эластичность спроса. В итоге может случиться так, что грузоотправители дорогих грузов выиграют немного и это не повлияет на величину их спроса, а грузоотправители дешёвых грузов могут полностью прекратить свои перевозки.
С другой стороны, у противников применения ценовой дискриминации применительно к железнодорожным тарифам есть два важных аргумента, которые тоже необходимо иметь в виду.
Если ценовую дискриминацию практикует государственная компания, то у этого инструмента есть важный недостаток: субсидии, которые получает такая компания, не видны в явном виде, что создаёт обманчивые впечатления об эффективности отрасли. Иначе говоря, если бы эту субсидию отрасль (например, угольная) получала напрямую, из бюджета, то общество видело бы «цену неэффективности» и могло подтолкнуть отрасль к реформам с целью повысить эффективность (например, потребовать закрытия каких-то нерентабельных шахт).
В то время как субсидия, получаемая не напрямую от государства, а опосредовано через железнодорожный тариф, может создать у общества иллюзию, что в отрасли всё хорошо и никаких реформ там не требуется. Возможен и третий вариант — общество согласно на ту или иную степень субсидирования и готово терпеть неэффективность ради каких-то других целей.
Например, в той же Германии вплоть до 2013-14 гг. были огромные субсидии для угольной отрасли.
Таким образом, можно выделить три разные стратегии, которые выбирают разные страны: субсидия из бюджета (Германия), перекрёстное субсидирование через заниженные железнодорожные тарифы (Россия) или политика невмешательства, когда частные железнодорожные компании сами договариваются с частными угольными компаниями об уровне тарифов (США).
Есть ещё один недостаток у подобного установления железнодорожных тарифов: некоторое искажающее воздействие на конкурентоспособность перевозимого груза. Субсидия одному грузу (дешёвому) неявно означает, что в отсутствие подобной субсидии другой груз (более дорогой), мог бы «проехать» по более низкому тарифу и попасть на рынок по более низкой цене, что увеличило бы спрос на него.
А подобное увеличение спроса, если оно повлечёт рост выпуска, может привести к снижению себестоимости, что снова повышает его конкурентоспособность. И вот этот цикл положительной обратной связи не будет запущен, если в нагрузку этот дорогой груз получает обязанность делиться своей эффективностью, поддерживая экспорт другого груза.
Таким образом, если в целом на теоретическом уровне все экономисты обычно приветствуют ценовую дискриминацию, применительно к отдельным конкретным кейсам, в частности связанным с тарификацией экспортных перевозок, вопрос может выглядеть гораздо более неоднозначным.
Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Фарид Хусаинов, к.э.н., эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, ИСТОЧНИК