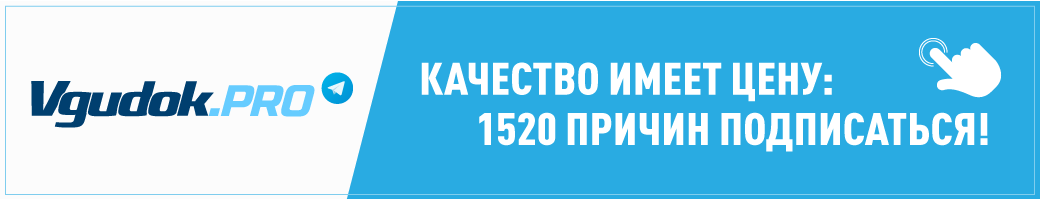РЖД сохраняют классовую дискриминацию через Прейскурант. Железнодорожники не спешат отменять кросс-субсидирование, отправляя уголь за счёт других грузов

«Кто девушку ужинает, тот её и танцует» — примерно на такие рельсы российская экономика перешла в начале «лихих девяностых». А на железнодорожной сети участники рынка, приняв Прейскурант 10–01, установили кросс-субсидирование. Но экономисты этот порядок называют «за себя и за того парня». То есть одни грузовладельцы оплачивают перевозку груза другим.
Тогда это называли справедливым подходом. Современные железнодорожники, пересчитав экономику за последние 30 лет, ошеломили рынок признанием: «сырьевым отраслям, включая угольную, выгодно получать прибыль, а в ряде случаев и сверхприбыль на экспортных продажах за счёт перекрёстного субсидирования перевозок». По мнению руководства РЖД, такой подход несправедлив, ведь «за прошедшие десятилетия ситуация кардинально изменилась, и структура перевозок формируется по другим принципам».
Прейскурант в 25 звездочек
Прейскурант 10–01, принятый почти 22 года назад, как хороший коньяк — настоялся. Документ утвердили в 2003 году. Тогда впервые участники рынка выделили вагонную составляющую. Со слов Александра Синёва, заместителя гендиректора ИПЕМ, её величина, в целом, объективно отражает стоимостное выражение расходов на содержание подвижного состава, в том числе и разную долю порожнего пробега специализированного и универсального парка. Но есть и недостатки, говорит эксперт. Главное: действующий Прейскурант не учитывает дифференциацию уровня тарифов по платёжеспособности (классам грузов, категориям и направлениям перевозок).
Может быть именно поэтому в год 25-летия документ, скорей всего, обновят.
По крайней мере о таких планах заявил генеральный директор компании Олег Белозёров в феврале 2025 года, на заседании правления РЖД по итогам 2024 года:
«Основополагающий принцип, который должен найти отражение в новой модели, — справедливый экономически обоснованный тариф, который включается в составляющие для решения задач инфраструктурного развития и учитывает ключевые долговые индикаторы компании».
Сразу после участники рынка вспомнили об «индивидуальных тарифных решениях для конкретного клиента и маршрута». О них заговорили ещё в 2019 году, с подачи начальника департамента методологии тарифообразования РЖД Владимира Варгунина. Правда, расчёты в Прейскуранте сделаны по финансовой модели, которую представили даже не РЖД, а ещё МПС. То есть сейчас грузовладельцы работают на основе данных за 2001 год. То есть документ менять надо. Но в апреле 2025 года рынок перестал обсуждать революцию, взлом и полный передел Прейскуранта 10–01.
Есть версия, что документ ждут косметические преобразования. Скорее всего, если новых вводных от правительства страны не будет, то по итогу рынок получит обновлённую версию старого Прейскуранта 10–01 с пересчётом второй части на текущие цены и небольшой реновацией первой части в правилах применения тарифа, говорит Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура». По его мнению, изменения коснутся перевозок порожних вагонов и контейнеров.

Денис Назаров, директор по закупкам и логистике АО «ЦЕМРОС» даже ссылается на предварительную информацию из источников, близких к РЖД, и она тоже подтверждает «косметическое сглаживание».
«Это сложная задача для регулятора — обеспечить баланс интересов с учётом транспортных издержек в конкретной отрасли, и мы всячески предостерегаем разработчиков данного тарифного руководства от резких решений, потому что с 1 января 2025 года были отменены скидки на перевозку минерально-строительных грузов, и стройматериалы ощутили повышенную тарифную нагрузку. Новые тарифные решения должны учитывать необходимость перевозки всех групп грузов и гармоничное развитие отрасли», — признаётся Денис Назаров.
Впрочем, Vgudok не нашёл тех, кто заявил бы о революции в тарификации железнодорожных перевозок и полный отказ от перекрёстного субсидирования. Потому что если это произойдёт, то на рынке останется только второй класс, те кто платит и танцует (читай едет).
Классовая борьба
Все грузы, перевозимые по железнодорожной сети, делят на три тарифных класса. Экономисты говорят о реализации принципа ценовой дискриминации. Она, подчёркивает Фарид Хусаинов, к.э.н., эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, автор Telegram-канала «Экономика на рельсах», означает только одно: даже при равенстве издержек на услугу, например, на перевозку груза, её цена для разных участников рынка может быть разной.
«Если мы сравним доходные ставки за тонно-км, то обнаружим, что такие грузы первого класса, как, например, щебень, уголь или руда, дают перевозчику (РЖД) доходную ставку на 30–55% более низкую, чем в среднем по всем грузам. А у таких групп грузов, как нефть и нефтепродукты или чёрные металлы, наоборот — доходная ставка на 79-80% выше, чем в среднем по всем грузам», — говорит он.
В вину углю и цементу ставят одно: железнодорожный монополист на их транспортировке не зарабатывает. Его он оценивает как низкодоходный. Грузы второго класса едут по полному тарифу. А вот третий тарифный класс —с ним всё совсем по-другому. Его перевозят с повышающим коэффициентом, который иногда составляет все 70%. Экономисты подчёркивают: грузы третьего тарифного класса дотируют перевозку грузов первого класса. Но ситуация несколько шире: перевозку первоклассного сырья — того же угля — тарифицируют дешевле, потому что этот груз перевозчик доставляет на производство, например, стали, а уже за её транспортировку заплатят больше.
Но этот груз появится, если на завод доставят уголь. И доставят дёшево.
«Первый класс опустили до уровня экономически обоснованной тарифной составляющей. А на готовую продукцию тариф повысили, но за счёт того, что стоимость готовой продукции другая, то тарифная составляющая тоже в пределах 10%. И вот эта схема позволяет удешевить сырьё, нарастить производство, и, с другой стороны, тот тариф, который перекладывается на готовую продукцию, не критичен для производителя», — говорит г-н Иванкин.
Эта схема работала лет 20. Но последние года три рынок перевернулся, и тот же уголь доставляют уже не только на производство внутри России, но и на экспорт. То есть в современном мире это уже не только сырьё, но и готовая экспортная продукция. Мало того, железнодорожному перевозчику, по сети которого экспортируется груз, никто из грузовладельцев третьего класса не компенсирует перевозку сырья. Да, коэффициенты на дальность для угля убраны, но в любом случае, согласно парадигме, принятой на РЖД, перевозка грузов первого тарифного класса кросс-субсидируется перевозкой грузов третьего класса.
В монополии не согласны терять прибыль, монополия работает над повышением общего уровня тарифов. Тарифы по перевозке угля — под особым вниманием, «чтобы несколько уменьшить то исходное распределение грузов по уровню доходности, которое было изначально заложено в Прейскурант № 10–01, говорит г-н Хусаинов. Экономист подсчитал: за последние три года рынок железнодорожных перевозок пережил пять повышений, в результате тариф вырос на 64,5%. Мало того, монополист отменил углю понижающие коэффициенты:
«Это привело к тому, что по итогам 2024 года доходная ставка РЖД от перевозок каменного угля (за тонно-км) выросла по отношению к 2021 году на 78%, а для перевозок угля на экспорт — на 91%. Для сравнения, средняя доходная ставки по всем грузам за тот же период выросла на 53%».

Фото: ВШЭ
Темп роста тарифа, строго говоря, не равен темпу роста доходной ставки, добавляет он. Последняя при перевозке каменного угля по итогам 2024 года на 45% ниже, чем средняя доходная ставка от перевозки всех грузов в целом. Таким образом, то перекрёстное субсидирование между низкодоходными и высокодоходными грузами, на котором построен Прейскурант № 10–01, по-прежнему сохраняется, говорит Фарид Хусаинов.
За себя и того парня
Проблемы перекрёстного финансирования одних грузов за счёт других не существует, подтверждает Александр Синёв. И тут же оговаривается, что кросс-субсидирования нет в существующем спекулятивном виде и объёме. Среди его доводов есть такой: об убыточности перевозки можно говорить лишь в случае, если доходы от перевозок не покрывают переменных издержек. Это принятый во всём мире подход, подчёркивает г-н Синёв. Такой ситуации с углём не было ни до, ни после отмены понижающих коэффициентов.
«Так, с учётом наличия существенного уровня постоянных затрат (53–55% в грузовых перевозках в целом), себестоимость перевозок необходимо считать либо с учётом дифференциации грузов по объёму перевозок каждой номенклатурной позиции по сравнению с условной номенклатурой со средней массовостью, либо по уровню переменных издержек», — продолжает он.
Но главное — маржинальность грузовых перевозок. Синёв настаивает: маржинальный доход на железнодорожной сети определяется как разница между выручкой от реализации и величиной переменных затрат. По его расчётам, выручка от перевозок угля даже до отмены понижающих коэффициентов на 5,5% превышала переменные расходы. А это значит, об убыточности перевозок угля с точки зрения правильного учёта постоянных и переменных затрат речи не может быть.
Уголь платит за себя сам, и в прошлом, со скидкой, и в настоящем.
Что в будущем? До будущего осталось немного: обещают документ, в котором описаны изменения Прейскуранта 10–01, представить уже к ноябрю. Главное, причин отменять классовое неравенство и ценовую дискриминацию на железнодорожной сети нет смысла.
Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Георгий Соломонов