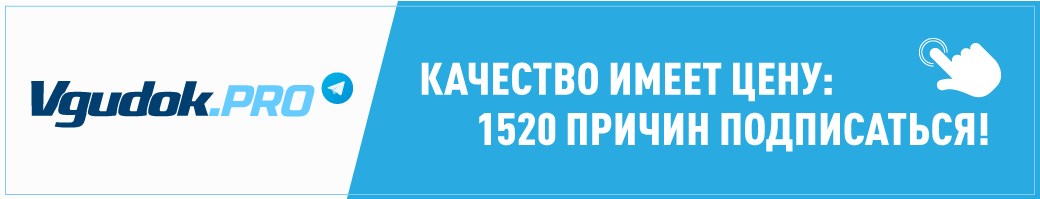Сахалинский мост предлагает сообразить на троих. От государственно-частного партнёрства к народным облигациям — россиян призывают скинуться на мегапроект

Дальний Восток — это не просто регион, это целая философия. Если на западе России транспортная инфраструктура является незыблемым столпом экономики, то на востоке это чаще всего символ отчаянной борьбы с логистическим адом, политических амбиций и вечных проектов, которые то вспыхивают яркой звездой, то растворяются на огромной территории в тумане неясных перспектив.
История с мостом на Сахалин — яркий пример. То его строят, то не строят, то тоннель роют, то переправу рисуют, то миллиарды тратят, то сметы пересчитывают. И вот когда казалось, что тема немного затихла, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подкинул новую интригу: а не скинуться ли нам всем миром, то бишь народными облигациями, на «стройку века»?

С учётом примерных прогнозируемых затрат на проект в размере (скажем грубо) 1 трлн рублей, можно сказать, что в принципе сумма подъёмная. На 100 млн трудоспособного или почти трудоспособного (и вновь округляем грубо) населения РФ приходится всего-то по 10 тыс. рублей с носа. Стройка длинная, значит, можно растянуть по 2 тыс. рублей в год. Так сказать, в благородную рассрочку. Только вот зачем? Ради очередного памятника вечному русскому «Эй, ухнем!»?
Коллективный сбор на переправу
Идея, озвученная Чекунковым, звучит, прямо скажем, свежо и в духе времени. Зачем ждать бюджетных крох или инвесторов-скряг, когда «вся Россия хочет, чтобы появился мост на Сахалин»? Пусть, мол, население напрямую покупает целевые облигации у проектных компаний, минуя банковских посредников. Ибо, как справедливо заметил министр, у населения денег накопилось — бери не хочу.
Однако всё не так просто, уверены эксперты. И происходящее напоминает кому-то скорее нечто показательное, нежели конструктивное.
«Честно сказать, идея "народных облигаций" для финансирования инфраструктурных проектов ходит по коридорам правительства уже не первый год, но разбивается об одно простое соображение: почему бы не привлечь средства через ОФЗ? Это было бы и проще и понятнее. Со статусом народных облигаций же возникает куча неясностей: кто их эмитирует, распространятся ли по ним госгарантии и пр. Скорее всего, правительство просто сейчас не готово финансировать данный проект (бюджет и так непростой) и потому множит сущности сверх необходимости», — рассказал Vgudok Дмитрий Адамидов, экономист, автора Telegram-канала @angrybonds.
С одной стороны, логика вроде бы есть. Действительно, в условиях повышенного спроса на внутренние инвестиции и при наличии свободных средств у граждан, государственно-частное партнёрство (ГЧП) через облигации может показаться панацеей.
С другой стороны, мы же не в сказке, а в России.
Целевые облигации для населения на мегапроект — это что-то из разряда «позолоти ручку, прохожий». Как будет гарантирована доходность? Какие риски возьмёт на себя население? Кто будет управлять этими «народными» миллиардами? И, самое главное, насколько вообще реален такой механизм для проекта, который уже перерос из «стройки века» в «вечный прожект»?
«Мост нужен. Но не любой. Если строить, то с учётом развития Дальнего Востока: логистических хабов, новых портов, экспорта. А не ради того, чтобы „был мост“. Сейчас проект — это набор обещаний, а не инженерная схема», — говорит Vgudok экс-сотрудник Минтранса, курировавший мегапроекты.
С ним соглашается на условиях анонимности представитель компании, занимающейся разработкой транспортных систем:
«Идея с облигациями интересна, но требует прозрачности. Люди должны знать, сколько получат, когда и при каких условиях. А не покупать „кусок моста“ как на краудфандинге».
Сами граждане уже отреагировали на предложение федерального чиновника. Естественно, со свойственным россиянам остроумием. Вот несколько примеров:
«Выпуск облигаций — не решение. Это попытка снять с себя ответственность. Вместо того чтобы чётко обозначить: кто строит, кто финансирует, зачем и когда — предлагают народу вложить деньги в туман. Хороший мост строят не по эмоциям, а по расчёту. Хороший мост не продают как облигации в приложении. Хороший мост — это когда ты едешь по нему, а не мечтаешь о нём».
«Если облигации действительно запустят — предлагаем назвать их «Туман-бонд». Хотя бы честно».
«Лучше бы дороги починили. У нас в Южно-Сахалинске каждая вторая яма — с табличкой „ремонт ведётся“ с 2022 года».
«Мост нужен, но кто его будет обслуживать? У нас на „материке“ даже в Ванино нормального порта нет. А вы мост рисуете».
«Куплю облигацию, если обещают, что после моста перестанут брать 20 тысяч за билет на поезд».

Валерий Лимаренко. РИА Новости
Помним мы, как несколько лет назад наш ответ западным санкциям искали в импортозамещении, а теперь ищем в народном финансировании. Но между тем, чтобы вся Россия захотела, и тем, чтобы вся Россия купила облигации на сотни миллиардов, дистанция размером с пролив Невельского. И это, не говоря уже о доверии населения к таким инструментам, которые, мягко говоря, не всегда стабильны.
Концессия, инфляция и «где деньги, Зин?»
Пока г-н Чекунков грезит народными облигациями, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в декабре прошлого года заявлял, что мост могут строить в рамках концессии, и, цитирую, «концессионеры уже появились». Интригующе, но, как водится, без имён, паролей и явок. Кто эти таинственные концессионеры, готовые вложиться в проект с окупаемостью в 15–20 лет, да ещё и в условиях постоянного удорожания?
Удорожание — это отдельная песня. В 2018 году, когда Владимир Путин поручил Кабмину проработать вопрос, речь шла о 540,3 млрд рублей. А уже в июне 2024 года Лимаренко в интервью РБК выдал новую цифру: 800–900 млрд рублей! И это не окончательно, ведь «настоящая оценка будет тогда, когда будет проект». Логично, конечно. Вот только за последние два года рубль, мягко говоря, не укрепился, металл и оборудование подорожали, а логистика стала головной болью.
Так что к моменту, когда «настоящая оценка» ляжет на стол, мы рискуем увидеть сумму, которая перевалит за триллион, а то и полтора.
И здесь возникает классический вопрос: кто готов вложить такие деньги? Даже если концессионеры появились, насколько их финансовые возможности и политический вес соответствуют масштабу проекта, который уже сейчас выглядит как финансовая чёрная дыра? Или речь идёт о некоем ГЧП, где частное — это номинальный фасад для государственных вливаний из различных фондов и бюджетов? Ведь на Дальнем Востоке без щедрой государственной поддержки ничего путного не строилось. И уж тем более такого масштаба.
Призрачные миллионы тонн и стратегические туманы
Но деньги — это только полбеды. Главный гвоздь в гроб экономической целесообразности сахалинского моста уже много лет забивают эксперты, сомневающиеся в грузовой базе. В 2019 году «ДКРС-Хабаровск» (филиал РЖД) сообщала, что для проекта необходимо обеспечить грузоперевозки до 36,9 млн тонн. Проблема в том, что тогда фактический грузопоток между Сахалином и материком составлял смешные 2,5 млн тонн в год.
Прогнозы на 2030 год при наличии моста были чуть оптимистичнее — 8,5 млн тонн.
И вот здесь мы неизменно интересовались: а где, простите, потерялись 28,4 миллиона тонн грузов? С Сахалина — в основном уголь и СПГ (но они идут морем), немного леса и рыбы. На Сахалин — стройматериалы, продовольствие, топливо. Ничто из этого не генерирует те объёмы, которые могли бы оправдать сотни миллиардов рублей инвестиций в железнодорожный мост и полтысячи километров подходов.
Экономика здесь не на первом месте. Сахалинский мост — это прежде всего геополитика и стратегическая безопасность. Вопрос не в том, окупится ли он за счёт грузоперевозок, а в том, насколько он нужен для обеспечения стабильного сообщения с островом, его интеграции в единую транспортную систему страны, а также для гипотетических будущих проектов, о которых пока не принято говорить вслух.
Это как БАМ — не столько про экономику, сколько про освоение территорий и стратегическое присутствие. Но если БАМ строили с энтузиазмом и идеологической подоплёкой, то Сахалинский мост больше напоминает бюрократический пинг-понг между ведомствами, где каждый пытается спихнуть ответственность и найти нового спонсора.
Сахалинский мост в контексте российских долгостроев
История сахалинского моста, его постоянное удорожание и переносы сроков, увы, не уникальны для российской инфраструктурной повестки. Вспомним многострадальную Северную широтную дорогу — проект, который тоже обещает прорыв в Арктику, но постоянно сталкивается с финансовыми трудностями и пересмотром концепции. Или модернизация БАМа и Транссиба, где сотни миллиардов осваиваются годами, а «узкие места» всё ещё возникают.
Многомиллиардные проекты в России часто проходят длинный и тернистый путь от красивой презентации до первой шпалы. И дело не только в объективных трудностях, таких как климат или логистика. Зачастую это и отсутствие единой стратегии, и нехватка прозрачности в распределении средств, и, конечно, инфляционные риски, которые в нашей стране традиционно опережают оптимистичные бюджеты.
«Конечно, Сахалинский мост нужен, — говорят эксперты, – но не ценой бесконечного роста сметы и подмены реальных экономических обоснований геополитическими лозунгами. Проект должен быть прозрачным, а его финансирование — понятным».
Общественность, в свою очередь, относится к подобным инициативам с привычным скепсисом. «Опять обещания», «сколько можно переносить?», «лишь бы не распилили» — типичные комментарии под новостями о мегапроектах. Люди устали от вечных строек, которые съедают бюджеты, но так и не материализуются в реальные объекты.
А что Сахалин? Ждёт...
Пока в министерских кабинетах обсуждаются инновационные схемы финансирования, а на региональном уровне ищут таинственных концессионеров, жители Сахалина продолжают ждать. Ждать надёжного сообщения с материком, ждать снижения цен на товары, которые зависят от дорогостоящей паромной переправы.
Проект железнодорожного моста (или тоннеля — хотя сейчас приоритет за мостом) включает в себя не только сам шести-семикилометровый переход через пролив Невельского, но и строительство 585 км однопутной железной дороги от станции Селихин в Хабаровском крае до станции Ныш на Сахалине. Это колоссальный объём работ, требующий не только денег, но и мощностей, ресурсов, и, главное, политической воли, которая не иссякнет с очередным экономическим или политическим штормом.
На данный момент проект Сахалинского моста всё ещё находится в подвешенном состоянии.
Есть планы, есть смелые идеи по финансированию, есть растущие сметы. Но нет ни окончательной проектно-сметной документации, ни чёткого графика строительства, ни, тем более, реального старта работ. Так что пока это больше похоже на мираж в дальневосточном тумане, чем на стальную магистраль, которая соединит остров с материком.
Ведь каждый такой прожект — это не просто набор цифр и технологий, это отражение реалий нашей экономики, политики и способности страны воплощать амбициозные мечты в жизнь. Или, по крайней мере, убедительно их обещать. Главное, чтобы народные облигации не превратились в народные же ожидания, которыми, как известно, очень просто обманываться.
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Владимир Максимов