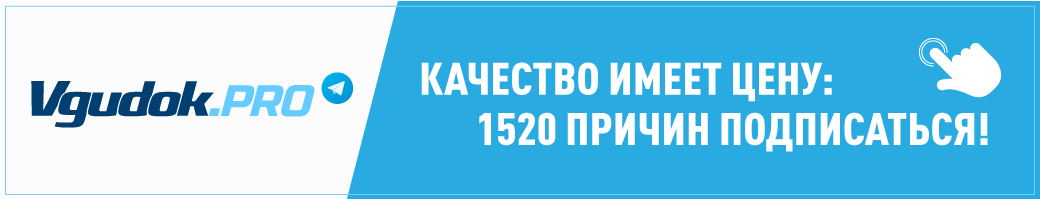Чёрная дыра российского угля. Кризис в отрасли коснулся и коксующегося угля, и РЖД, и железнодорожных операторов

Июль пока что получается богатым на не самые позитивные новости для угольной промышленности. Хотя, откровенно говоря, это уже входит в привычку вне зависимости от дат — как в песне: «на проклятом острове нет календаря». Сначала в Центре ценовых индексов (ЦЦИ) подсчитали, что доходность оперирования полувагонами (наиболее «угольным» подвижным составом) в июне 2025 года упала в 2–2,5 раза по сравнению с началом 2024 года. Ставки предоставления снижаются на фоне негативной конъюнктуры на рынке угля, который по-прежнему является крупнейшим по объёмам грузом на железной дороге.
В июне на маршруте Кузбасс — порты Дальнего Востока ставки сократились до 105 тысяч рублей (–16% месяц к месяцу) за рейс для типовых полувагонов и до 132 тысяч рублей (на 13%) для инновационных. Схожая ситуация и на других направлениях: на Северо-Запад цена снизилась до 85–115 тысяч рублей (на 11–13%,), на Юг — до 85–120 тысяч рублей (на 7–11%) за рейс в зависимости от типа вагона. Спотовые и долгосрочные ставки аренды упали в июне до минимума с начала года и обновили минимум сентября 2021 года.

Резкое снижение ставок на перевозку угля связано с падением его котировок. По словам экономиста Николая Кульбаки, на сегодняшний день мировые цены на твёрдое топливо находятся на самом низком уровне за последние четыре года. А если учесть уровень инфляции доллара, то цены сейчас находятся на минимуме с лета 2017 года. И для российского угля шансов пробиться на мировой рынок по такой цене практически нет.
«Сейчас мировая цена составляет всего около 110 долларов за тонну, хотя ещё в 2022 году она достигала 400 долларов. Доставка по железной дороге тонны угля до Владивостока составляет от 25 до 40 долларов за тонну.
Но дальше его надо везти морем до Китая.
Это всё очень приблизительно. Точные цифры озвучить трудно, но прибыли у большинства угольщиков сейчас практически нет. Ну а перевозка может занимать до трети стоимости угля», — напомнил в беседе с vgudok.com г-н Кульбака.
Ещё весной многие эксперты говорили, что цены на твёрдое топливо в летние месяцы частично отыграют назад и можно будет говорить о хотя бы нулевой рентабельности. Не случилось. По словам Николая Кульбаки, в ближайшее время мировые цены точно расти не будут. Особенно если учесть действия Трампа, всё сильнее двигающие мировую экономику в сторону рецессии. Да и предложение угля на мировом рынке только увеличивается, в том числе благодаря росту добычи в Китае. При этом, отметил г-н Кульбака, операторы вряд ли будут сокращать парк полувагонов на этом фоне:
«Сомневаюсь, что кто-то из операторов будет серьёзно сокращать парк полувагонов. Возможно, они порежут некоторое количество старых вагонов, но массовым этот процесс точно не будет».
Вторым неприятным моментом для отрасли стало ощутимое падение морского экспорта коксующегося угля из России. Ещё недавно казалось, что проблемы энергетического угля не коснутся углей коксующихся. Они по определению дороже, да и спрос на них в последние годы подогревался промышленниками Китая и Индии. Но по итогам июня Россия экспортировала из портов 2,23 млн тонн этой номенклатуры груза — это на 23% меньше, чем в мае, и на 35%, чем в июне прошлого года. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года, когда было отгружено 2,33 млн тонн.

Источник: Коммерсант
Из указанного объёма 1,5 млн тонн пришлось на Дальний Восток, через который топливо уходит в Китай, всё ещё основной рынок сбыта. Из южных портов коксующийся уголь не отгружают вовсе, его перевалка стоит уже два месяца подряд. Эксперты связывают это с тем, что Индия и Турция сокращают производство стали. Кроме того, экспорту российской продукции препятствуют низкие цены в Китае и Индии, да и в целом рынок металлургического сырья и стали перегрет.
Впрочем, Николай Кульбака с таким выводом не согласен. Собеседник vgudok.com никакого перегрева мирового рынка стали не наблюдает. По его мнению, есть ожидание падения рынка, а для российских производителей проблемы возникли, прежде всего, из-за санкций, вследствие которых они не могут попасть на мировой рынок.
Основатель N.Trans Lab Мария Никитина отметила, что падение спроса на уголь — «безусловно долгосрочной тренд». Его глубина и системность определяется в первую очередь экологической доктриной, которая в свою очередь связана не только с климатическим влиянием, но и с протекционистским экологическим барьером, воздвигаемым развитыми экономиками с целью самозащиты. Второй момент — общемировые геополитические и экономические пертурбации: войны, тарифы, деглобализация и т.д.
«Это в том числе отвечает на вопрос, почему падает спрос не только на энергетический уголь, но и на коксующийся. Второе больше зависит от показателей роста/падения мировой экономики, чем от перехода на ВИЭ и другие виды топлива. Третья история — это санкции, в рамках которых российские углеводороды покупаются с дисконтом, связанным с рисками вторичных санкций, уязвимость подсанкционных производителей и т.д. Сочетание трёх этих факторов заставляет именно наших производителей больше других ощущать снижение спроса и понижающий ценовой тренд», — считает г-жа Никитина.
При этом, добавляет эксперт, мировое потребление и импорт угля суммарно в десятки раз превышает наш экспорт. И, постепенно снижаясь, глобальный спрос на уголь так и будет сохраняться на относительно высоком уровне в сравнении с чисто российской добычей. Таким образом основное для выживания угольной отрасли — её конкурентоспособность.
«Здесь логистика играет ключевую роль. Во-первых потому, что в отличие от наших ключевых конкурентов нет таких значительных транспортных плеч доставки, а во-вторых, потому, что для низкодоходных грузов транспортировка занимает значительную долю в себестоимости.
При этом баланс прибыли и убытков между перевозчиком и углём очень узкий.
Чуть больше скидок — и РЖД начинает возить в минус, чуть выше тариф — и угольщикам самим не интересно ехать, схлопывается их маржа», — отметила г-жа Никитина.
В целом, ситуация с углём не нова и не уникальна: на нефтяном рынке она решается существованием ОПЕК, которая контролирует баланс спроса и предложения, а также стоимости через пропорциональные ограничения выпуска нефти. К тому же должны прийти и угольщики.

Инструментов сокращения избытка выпуска угля много. Это и международные договоры вроде той же ОПЕК, и внутреннее постепенное снижение объёмов производства за счёт закрытия наименее рентабельной добычи. А также стимулирование постепенного сокращения производства угля со стороны государства, регуляторов, тех же тарифов РЖД. Всё это — исключительно в целях оздоровления угольной отрасли.
«В условиях гиперпредложения угля на рынке негативные последствия для всех участников российского рынка будут значительно хуже, чем при постепенном сокращении объёмов, с небольшим опережением падения рыночного спроса.
Другой возможный вариант — увеличить конкурентоспособность нашего угля.
Например, пробовать превращать его в электроэнергию сразу на границе разреза, то есть исключить негативных фактор повышенных логистических плеч и затрат из конкурентных недостатков угля», —резюмирует Мария Никитина.
Последние события в отрасли всё ближе подводят к пониманию, что угольщикам придётся меняться и подстраиваться. И как раньше уже не будет. Смогут ли они с этим справиться? Точно не все, но тот, кто переживёт этот кризис, возможно, и запустит новую эру российского угля.
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Владимир Максимов